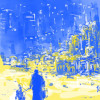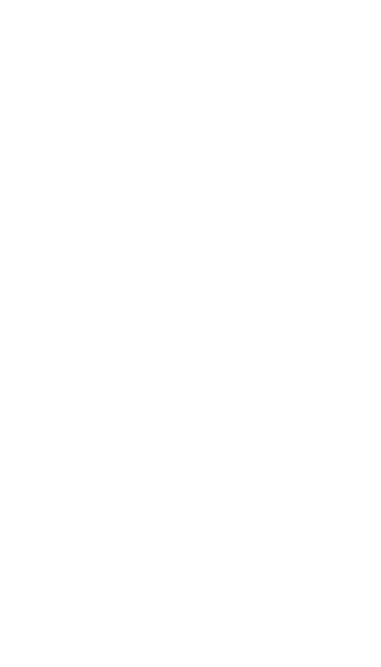Биографии
Клара ХАРТМАНН
Клара Хартманн (Klara Hartmann) родилась в мае 1930 года в Мишкольце на севере Венгрии, в семье крестьян. Она почти ничего не помнит своих родителей, которые умерли, когда она была маленькой.
Ее воспитал дядя, унтер-офицер, служивший в жандармерии в Генце. Когда в январе 1945 года Красная Армии подходила к Венгрии, ее дядя и тетя сбежали, бросив Клару.
Ее арестовали и увезли в тюрьму в Киев, где почти год допрашивали и пытали. Получив десять лет за шпионаж в пользу немцев, Клара попала на стройку в Воркуту, где она стала жертвой постоянных издевательств и притиснений со стороны советских уголовниц. Одним из самых тяжелых испытаний стало для нее полное одиночество: в лагере не было ни одного другого венгра.
Только в 1949 году, когда ее перевели в Степлаг в Казахстане, где содержались только политические заключенные и она попала в бригаду, состоявшую в основном из украинок, Клара узнала, что заключенные могут помогать и поддерживать друг друга.
Летом 1953 года, в Киеве, на пути в Венгрию Клара познакомилась со своим первым мужем, молодым венгерским крестьянином, как и она, недавно освобожденным. У нее не было семьи, поэтому они поселились в его деревне на северо-востоке Венгрии.
После развода Клара работала на разных стройках, ведь как бывшая заключенная она не могла пойти учиться. И только благодаря врачу, встреченному на одной из строек, ей удалось стать медсестрой и начать работать в клинике для душевнобольных.
Клара снова вышла замуж и, так как у нее не могло быть детей, она воспитала племянника своего мужа, оставшегося сиротой, и впоследствии стала бабушкой. «Для меня это было, как школа. Но очень горькая школа», – так говорит она в июне 2009 года о времени, проведенном в Гулаге.